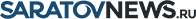Две смерти Владимира Маяковского
В противоречивом и блестящем жизненном пути «поэта революции» большую роль сыграли уроженцы Саратова
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского. У этого человека удивительная не только прижизненная, но и посмертная судьба. Он успел написать действительно гениальные тексты, на которые позже наслоилась идеологическая агитпроповская халтура.
Он успел стать «лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи» — эти сталинские слова пригвоздили ВВМ к гранитному пьедесталу истории и стали его своеобразной посмертной визитной карточкой. Его успели заклеймить как поэтического конъюнктурщика еще при жизни: «Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства», — писал Иван Бунин, и это толкование личности и творчества Маяковского на все лады тиражировалось в поздние 80-90-е — в эпоху отрицания всего советского, в эпоху ревизии культурного наследия СССР.
Особенно пристально через призму той эпохи рассматривалась смерть поэта, покончившего с собой 14 апреля 1930 г. И тут крайности: с одной стороны, дескать, певец режима понял, в каком «окаменевшем г…» («Во весь голос») очутился, и решил поставить «точку пули в своем конце» («Флейта-позвоночник»); согласно другой точке зрения, тиражируемой в советские годы и снова актуализируемой сейчас, у самоубийства Маяковского чисто бытовые корни. Впрочем, говоря о классике, следует выносить на первый план версию другого классика, которая не содержит в себе криптологического зерна, а просто и вопиюще красиво раскрывает то, что убило поэта: «12 лет Маяковский-человек убивал в себе Маяковского-поэта, а на 12-й год Маяковский-поэт убил Маяковского-человека», — сказала Марина Цветаева. И лучше не скажешь.
«Последний глаз у идущего к слепым человека»
Ранний Маяковский безусловный и чистейший гений, поэт космического масштаба, неистовый разрыватель традиций и одновременно тонкий лирик. Но именно этот Маяковский менее всего устоялся в общественном сознании. Поэт, бунтарь, воинствующий экстраверт и актер, актер, актер: все это — знаменитая желтая кофта или розовый пиджак, в котором Маяковский щеголял в Саратове весной 1914 г., вот это презрительное лицо и сигарета, зажатая в углу рта, массивная челюсть, вот эти руки в карманах широченных брюк — все это направлено на одно: на эпатаж. Литературный и окололитературный эпатаж, в конечном итоге приведший к литературному эшафоту. Безудержное самолюбование, переступающее через любые этические препоны. Да вот хотя бы оцените: «Я люблю смотреть, как умирают дети…» («Я», 1913). И нет никакого смысла осуждать: ясно, что это была поза, попытка привлечь к себе внимание, и ВВМ своего добился. Личность, как бы сейчас сказали, с сумасшедшей, потрясающей харизмой. Он мог подавить, устрашить, восхитить, взорвать любую аудиторию…
Неравнодушие.
Вот главное в отношении к Маяковскому. К нему нет и не может быть равнодушного отношения, можно восхищаться и негодовать, презирать поэта за безобразные выходки в печати и на людях, видеть в нем «лучшего и талантливейшего» и одновременно — бесцеремонного и наглого пропагандиста. Уважать его как сильную личность и очень крупного поэта — и недоумевать, как эта глыба в быту оказывается неуверенным, склонным к суицидам (а попытки были и до 1930-го!), легко ранимым и капризно требующим постоянного к себе внимания человеком.
И все это будет гранями истины.
У автора этих строк Маяковский вызывает смешанные чувства. Восхищение и зависть к божественному дару — раннее творчество: «Если правда, что есть ты, Боже, Боже мой, если звезд ковер тобою выткан//, если этой боли, ежедневно множимой, тобой ниспослана, Господи, пытка…» — ну?.. Гениально же? «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека!» — какова метафора, а? Поздний Маяковский, вот этот шумный, как катящаяся по мостовой громоздкая пустая бочка — этот Маяковский вызывает недоумение, горечь; иногда презрение, но чаще раздражение; в конце — жалость, ведь мучился, мучился человек.
И довольно эмоций. Теперь, господа и товарищи, к фактам.
От Владимира Ильича до Леопольда Леонидовича
Я не случайно упомянул розовый пиджак Маяковского, в котором он 19 марта 1914 г. выступал в здании Саратовской консерватории в составе группы футуристов. Он бывал в нашем городе трижды, но влияние Саратова и урожденных саратовцев на жизнь и творчество Маяковского не исчерпывается этими разовыми наездами в город на Волге. И есть тут очень неожиданные переплетения и повороты судеб… Но об этом чуть позже.
Есть общеизвестные свидетельства о приездах Маяковского в Саратов. Первый раз он прибыл сюда, будучи 17-летним мальчишкой, летом 1910-го: «Я пригласил Володю Маяковского к нам в Саратов. Часто компанией ходили в Липки, на Волгу, ездили на Зеленый остров, пели песни, а вечером, набегавшись, усаживались у костра, и Володя читал стихи», — вспоминал саратовский товарищ поэта Николай Хлестов, будущий оперный певец. Маяковский прожил в Саратове все лето и, по воспоминаниям очевидцев, «стал как будто бы еще выше, голос зазвучал сильнее, гуще, увереннее: видимо, волжские просторы подействовали на него».
Воздействие Саратова на Маяковского не ограничивалось пресловутыми «волжскими просторами». За какой-то год до посещения Саратова ВВМ загремел на несколько месяцев в Бутырскую тюрьму. В этом прискорбном факте легко усмотреть роль революционера-подпольщика Владимира Вегера. Этот деятель по кличке Поволжец оказал серьезное влияние на формирование революционных взглядов будущего «горлана-главаря». У самого Владимира Ильича (да-да!) была пестрая биография: еще в пору обучения в Саратовском реальном училище он вел подпольную работу, был членом Саратовского комитета РСДРП, работал в войсках, в боевой дружине, стоял во главе городского забастовочного комитета учащейся молодежи. Организовывал крестьянское партизанское движение против помещиков в революционную пору 1905-1907 гг., и результаты были налицо: по числу сожженных помещичьих усадеб и экономий губерния прочно удерживала одно из первых мест в стране. С Маяковским Вегер познакомился в Москве, когда инструктировал его для дальнейшего использования в подпольной работе. Архивные источники, в их числе и полицейские протоколы, зафиксировали трогательный обмен мнениями в Мясницком полицейском доме в Москве, где Маяковский и Вегер, находясь в соседних камерах, говорили о своих жизненных целях и устремлениях, о политике и поэзии. К слову, Вегер любил символистов, а ВВМ, как известно, на чем свет стоит ругал «декадентов» всех направлений и мастей и говорил о необходимости создавать новое искусство.
…В пору, когда это «новое искусство» не только было создано, но и дало многочисленные мертворожденные плоды, Маяковский имел обширные и печальные контакты с другим человеком, не чуждым нашему городу. Уроженец Саратова Леопольд Авербах сам ни стихов, ни прозы не писал, но оказал колоссальное воздействие на литературный процесс 20- и 30-х годов. Сын саратовского фабриканта, как известно, стал главредом знаменитого журнала «На литературном посту» и возглавил РАПП — Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Именно Авербах играл ключевую роль в вытеснении с отечественного литературного пространства писателей-«попутчиков», таких как Пильняк и Замятин, именно он травил Булгакова. С Маяковским ему, на первый взгляд, нечего было делить: оба обласканы властью, оба, что называется, «при деле», оба активно формулируют задачи «передовой» пролетарской литературы. Но это только на первый…
«Я спросил у Ягоды…»
В 20-е Маяковский окончательно закрепился в окололитературно-политическом процессе Советской России как рупор официоза. Былые блеск и новизна его поэзии давно уступили место политическому шаблону, облеченному в формы различной степени корявости.
Вот лишь немногие образчики этого творчества. «Жарь, жги, режь, рушь!.. Мы тебя доконаем, мир-романтик!.. На пепельницы черепа!» (поэма «150000000», 1919-1920) — ну, использование черепов в качестве пепельниц было довольно распространенной и милой привычкой в «чрезвычайках». «Хорошо в царя вогнать обойму!» («Владимир Ильич Ленин», 1924) — это да, а также в его четырех дочек. «Делай жизнь с товарища Дзержинского!» («Хорошо», 1927) — призыв к тому, чтобы молодежь активно подавалась в палачи, до сих пор, к слову, красуется на фасаде Саратовского училища МВД. «У меня и у бога разногласий чрезвычайно много» («После изъятий», 1922) — литературное благословение ограблению церквей, произведенному новой властью под предлогом борьбы с голодом.
Ну и так далее. При этом следует отметить один факт: «устремляясь в будущее» и призывая других рваться туда любой ценой, с любыми жертвами, сам ВВМ вовсе не намеревался жертвовать сиюминутными радостями. По количеству привилегий Маяковского превосходили разве что Горький и Демьян Бедный. Была широко известна привычка Маяковского путешествовать по заграницам и скупать дорогую обувь, посещать дорогие рестораны и т.д. И все это под эгидой «интересов страны»: «Я путешествую для того, чтобы взглянуть глазами советского человека на заграницу и потом передать увиденное моему читателю и слушателю. Путешествую я, следовательно, не только для собственного удовольствия, но и в интересах всей нашей страны», — заявил Маяковский, выступая в Саратове в 1927 г.
К тому времени, следует сказать, его слава изрядно потускнела. Он откровенно волновался за наполняемость залов и опасался, что аудитория примет его недружелюбно — такое уже случалось. В Саратове, впрочем, все прошло гладко, но в Москве Маяковского поджидала в некотором роде «часть Саратова» — Авербах. Этот Леопольд никогда бы не сказал: «Ребята, давайте жить дружно». Грозный глава РАППа и его преданный соратник Владимир Киршон (ныне заслуженно забытый и появляющийся разве что в титрах «Иронии судьбы» как автор текста песни «Я спросил у ясеня…») медленно, но верно монополизировали статус «истинных пролетариев от искусства», а организации ЛеФ («Левый фронт»), ведомой Маяковским, припаяли опасную кличку «левых загибщиков». Борьба за литературную борьбу велась острейшая. На стороне Авербаха были не только авторитет его зятя Генриха Ягоды, но и административное могущество, завязанное на прямом контакте с самим Сталиным. Маяковский и ЛеФ могли уповать разве что на Якова Агранова, который, так сказать, покровительствовал Брикам и самому поэту. Кто-то должен был уступить…
И первым не выдержал Маяковский.
6 февраля 1930 г. он вышел из возглавляемой им литературной организации и подал заявление в РАПП. Это было предательство своих сторонников. Это была фактически литературная смерть — к несчастью, ненадолго опередившая биологическую. В газетах запестрели убийственные рецензии, инспирированные РАППом… Но, прежде чем уйти навсегда, время от времени являлся — брызгами, спорадически и хаотично — прежний, постаревший, но снова гениальный — Маяковский: «Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид». Да что там цитировать?.. Читали, знаем.
P. S. Спустя пять лет после смерти Маяковского, 14 апреля 1935 г., в ту же пору, к которой относятся слова Сталина о «лучшем и талантливейшем», в саратовской газете «Коммунист» появляется статья «Маяковский в Саратове» вот с таким заключением: «За период от первой до второй саратовских встреч (автор текста просто не в курсе, что ВВМ был в нашем городе не только в 1914-м и 1927-м, но и в 1910 г. — Авт.) Владимир Маяковский через мучительные срывы, не раз «становясь на горло собственной песне», прошел очень сложный и трудный творческий путь от анархо-индивидуалистического и мелкобуржуазного бунтарства до певца подлинной пролетарской революционности», — бравурно пишет репортер.
На мой вкус, даже некролог звучит более жизнеутверждающе, чем вот это.
Антон Краснов